Михаил Гефтер
Перестройка или перепутье?
Мы — современники агонии сталинизма… Употребляя термины «режим» или даже «система», мы еще не дотягиваемся до истинных размеров явления, до первичности его в ряду родственных и производных феноменов нынешнего столетия.
 3 776
3 776 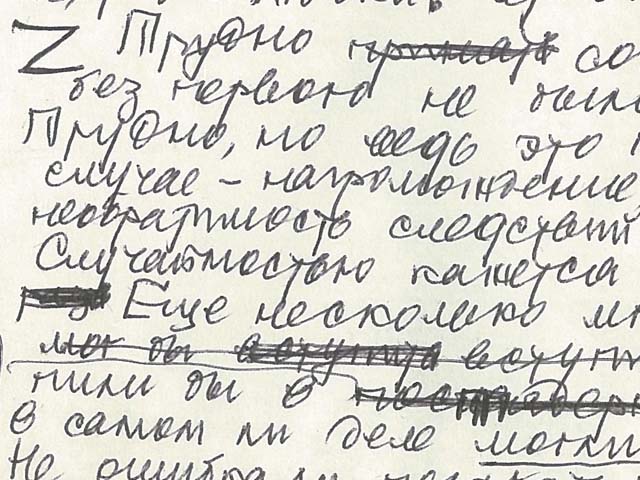
Гефтер М.Я. Перестройка или перепутье? // Век XX и мир. 1988. №7. С. 34-39.
…А может, не «или», а «и»?
Даль поясняет: перепутье — «раздорожица, перекресток, где один путь лежит поперек другого». Но есть еще значение — время и действие переезда.
Два значения — и три драматических внезапных года, аукнувшихся в Мире… Откуда же это взялось?
Первую фразу после памятного апреля я бы назвал «андроповской». К руководству пришел человек, который моложе предшественника. Он полон уверенности и готов продолжить начатое, но смелее, быстрей: пресечь вакханалию казнокрадств, неисполняемых решений, очистить администрацию от некомпетентных и разложившихся людей, поставить заслон эпидемии пьянства, охватившей чуть не все трудовое население, — мало ли этого, чтобы стронуть с места все?
И от слов к делу в мировых сношениях: укрепить, удешевить свою безопасность, вложившись (по собственной воле!) в безопасность тех, кого не один лишь генштаб мыслил потенциальным врагом на поле ядерного и «обычного» боя. Сдвиг, если не больше, если не дальше!
Внешней политикой Михаил Горбачев заглянул в XXI век. А внутренней? Совпадали ли краткосрочные усилия, приложенные к соотечественникам, с переменами, подстегнувшими официальный и неформальный Запад, — складывались ли те и другие в контуры нового целого? На этот вопрос ответил Чернобыль. Прозвучал не просто сигнал бедствия — открылись его размеры.
Сознание того, что начало, предоставленное самому себе, пойдет по затухающей, пришло не сразу. Надо было увидеть воочию бездну бездеятельности, мафиозности, непослушания — и не в одиночку разглядеть ее, вчитываясь в донесения следователей по особо важным делам. Не в одиночку, но и не со всеми вместе; нет для этого готового навыка, а препоны сильнее обретенной власти. Так родилась гласность; импровизация, получившая самостоятельную жизнь, не совпадающую с инерцией всеобщих будней.
Еще не «перекресток, где один путь лежит поперек другого», но близок к этому — и эта близость страшит одних, других тревожит: почти синонимы эти слова, но люди, за ними стоящие, — разные, и различие это растет вширь и вглубь.
…Отчего-то пришел на память человек из тех, кто, не приняв нашей революции, в эмиграции уберег и ум и совесть. (Пройдет время, надеюсь, узнает Георгия Федотова соотечественник-читатель.) Из статьи его под названием «Завтрашний день» — ровно полвека назад: «Оглянемся вокруг нас. Мы живем среди людей, сделавших из отрицания большевизма свое profession de foi (кредо — Ред.). Людей, которые надеются принять участие в строительстве русской культуры — сами или в лице своих детей. И что же? Политизация свирепствует вокруг, быть может с не меньшей силой, чем в России или Германии. Люди живут идеей — idee fixe — политической борьбы с большевизмом, подчиняя все остальные ценности, даже самые духовные, этой борьбе. В политическом утилитаризме мы не уступаем шестидесятникам. Какое там! В сущности, многие из нас вполне готовы к тоталитарному строю — только, конечно, не к коммунистическому. Для многих важнее не свобода, а символы, во имя которых попирается свобода. Они предпочитают символ нации символу пролетариата, двуглавый орел — серпу и молоту. Вот и все».
Вот и все?
Русский эмигрант чуждался политизации в духе «России и Германии» кануна сговора Гитлера со Сталиным. Его пугали дальние последствия утилитаризма предков. У нас, вероятно, другие стимулы, на своей полыни
взращенный духовный опыт. Но, как и Георгий Федотов, мы знаем: ненависть не поддается уговорам. Разбушевавшуюся, ее укротит лишь сила, а применение силы множит рецидивы — и в рецидивисты взаимного отторжения может угодить и сам «порядок» (увлекая за собой хрупкую, еще не научившуюся стоять на собственных ногах гласность).
…В узбекской трагедии встретились этнос с показухой, родовые узы с «соцобязательствами». Обыватель ахает, видя конфискованные сокровища, ныне отправляемые в казну. А растленная монокультурой земля, а полуграмотные и больные дети — чье наследство? Власти? Круговой поруки единокровцев, единоверцев?.. Чтобы излечить почву, не истребляя корней, нужно всмотреться в политический строй и в человеческие души. Нужно выслушать каждого! А для этого надо, чтобы каждый смог нестесненно заговорить, не боясь попасть ни в «консерваторы», ни в «авангардисты перестройки» и т. д. и т. п.
Да так ли это просто — высказаться до конца, пускай даже убраны все «внешние» препятствия? Есть заставы и внутри человека. Тревожные приметы времени — достоверная фальшь, перевертыши вчерашних догм. Некто настаивает: ни шагу с нашей магистрали; другой зовет: вернемся на мировую, но магистраль же — одну для всех и на всех.
Нет, что ни говори, признать исходное равноправие убеждений не вычеркивая наперед и того, что значится предрассудками, — непривычно, тяжко. Не спутаешь кандалы с веригами, — но держат и те, и другие.
Мы — современники агонии сталинизма, свидетели ее и участники. Употребляя термины «режим» или даже «система» («административно-командная» взамен сданного в архив «культа личности»), мы еще не дотягиваемся до истинных размеров явления, до первичности его в ряду родственных и производных феноменов нынешнего столетия.
Первичность связана с масштабом, измеряемым гекатомбами человеческих трупов. Она — в субъекте, но кто субъект? Один Иосиф Джугашвили? Одно лишь замкнутое пространство его психики, где безмерное властолюбие уживалось с патологическими страхами, с неуходящим «комплексом ненужности», а банальность кровавых преступлений — с изощренным искусством манипулирования живыми людьми? Одно это — его пространство? Или еще и другое — евразийская громада, сотканная из разных языков и цивилизаций, но сведенная к одному знаменателю всеобъемлющей и всепроникающей властью? Итог — не монолит, итог — кентавр: жесткая сцепка двух пространств, при которой «паранойя» одного исторического персонажа довела едва не до абсолюта закрытость огромного деятельного целого.
Я не рассматриваю сейчас летопись «закрытия России». Не в один день, не в один год все сцепилось. Были и преграды и откаты. Если замкнутость питалась «окружением» (питалась — и питала его!), то и нивелировка, унификация, равной которой, вероятно, не знало наше столетие, вбирала в себя (и растворяла в себе!) начатое революцией пробуждение окраин, ренессанс задвинутых наций… И когда сцепились намертво замкнутость с выравниванием (совпав волею рока с первым актом ядерного Мира), — началась агония. Историк скажет: закон феномена! Становясь равным себе, в кульминации могущества он сам обречен: обречен, не отступая, вовлекая и в умирание свое всех, кого изувечил, примучил, возведя в «со-могущественники».
Закон — и тут же загадка, разгадывать которую также не один год. 1956-й, XX съезд: неожиданный Хрущев. Им распахнутые ворота сталинский лагерей, им спасенные жизни, на миг возвращенная память — забудется ли такое, уместится ли в равнодушную строчку «реабилитации»?! И им же приоткрытые двери в Мир — больше для самого себя, но и это было в новинку, как и неповторимый праздник первого молодежного фестиваля, как и развязка Карибского кризиса — самого опасного из преддверий ядерной схватки. Развязка стоила, можно полагать, жизни Джону Кеннеди, но не она ли и в финале Никиты Хрущева?..
Замкнутость надломилась, не больше. А нивелировка — ни с места. Здравый почин совнархозов завершился фарсом разделенных обкомов, бунтом функционеров, заговором доверенных сподвижников. Брежневское двадцатилетие не реанимировало сталинизма, оно лишь на свой лад вложилось в его агонию. Выравниванию смертью пришел на смену универсализм коррупции, как некогда безумству крестовых походов — продажа индульгенций.
Но не упустим и другие, такие несхожие между собой лики 70-х, как американо-советское соглашение о закреплении (и повышении!) потолков человекоуничтожения — и появление в отечестве нашем новых людей. Людей из всех наших наций, готовых положить жизнь на обновление дома-мира. «Дети XX съезда» перестали быть детьми с рубежа 1968 года. Но справиться ли было инакомыслящим с атавизмом сталинской махины, с привычностью страха, с повальной причастностью ко злу? Вынужденные перейти к самозащите, они, вольно или невольно, становились на почву данности противостояния — личной и мировой. Но и этот урок не прошел зря. И он, не взвешенный еще, в прологе Апреля.




Комментарии