Глеб Павловский, Александр Ф. Филиппов
Вторая беседа. Практическое знание, подлинные и неподлинные суждения (часть 1)
Новые темы беседы Глеба Павловского и Александра Филиппова.
 3 384
3 384 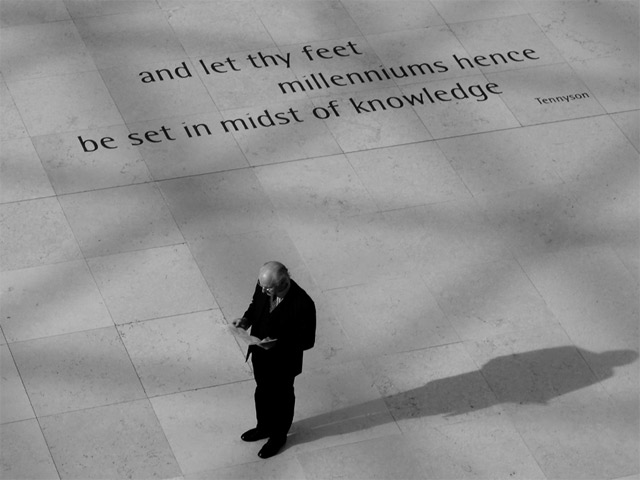
© flickr.com/photos/lewishamdreamer/
Александр Филиппов: Сегодня я хотел бы обсудить вопрос обретения знания. Мы в прошлый раз говорили о том, что великая культура, великая литература — это ресурс, позволяющий обрести понимание происходящего. Вот как я вас понял: это нам позволяет также понять и то, что множество людей вокруг — либо тупые, испуганные идиоты, либо жизнерадостные роботы. Ведь получается, что они не понимают того, что понимаете вы, тот, кто представляет эту великую традицию. Вы понимаете, а другие еще не понимают и, может быть, никогда и не поймут. Отсюда вытекает мой вопрос: стоит ли вам тогда просвещать окружающих? Зачем это нужно? Не проще ли достигать цели, не просвещая их? Но это лишь одна сторона дела. Другая сторона — это уверенность в достоверности своего знания. Это не то же самое, что комплекс культурно-исторического превосходства. И не то же самое, что уверенность ученого, открывшего истину.
Для меня такое превосходство знающего всегда было загадкой. Ученый может на многие годы уйти в затворничество, а потом выйти и сказать, что он нашел истину. Такое не раз бывало в XIX веке. Так Маркс пишет «Капитал». Так Бокль пишет «Историю цивилизации в Англии». Совсем другое — та мощная очевидность, которая позволяет до всяких специальных исследований написать, например, «Манифест коммунистической партии». Классиков спросить уже нельзя, и я обращаю этот вопрос к вам: как происходит обретение знания? Точнее: как появляется внутреннее ощущение неодолимой достоверности знания, а не просто превосходства позиции, как это ощущение подтверждается или наоборот не подтверждается?
Глеб Павловский: Сперва осторожно оспорю самоочевидность посылки, будто мы избранные знатоки, по отношению к которым прочие — «жизнерадостные роботы». Все не так. Напротив, во мне жил школьный запрет считать себя умней другого — табу разночинца. Я сторонился людей, которые его не придерживались, даже весьма утонченных. Поэтому обходил и богему в Одессе, где все считали себя гениями (среди них такие действительно были).
Моя посылка: все советские исходно — носители решающего, но закрытого от них знания. Мы разделяем несчастье быть империей знания, которое от коррозии действием было забыто или устарело. Все мы, я и люди вокруг, — сторона загадочного уравнения Октябрь 1917-го — Советский Союз, носители фрагментов опыта, который надо собрать, вернувшись туда, откуда все пошло. В этом смысле мы братья по забытому прошлому.
На эту посылку лег русский марксизм, хотя я никогда не был марксистом вполне. Директивы научного коммунизма мне всегда были неинтересны. Ближе нечто, что Михаил Лифшиц называл марксистским Просвещением, которого в СССР еще не было, и теория действия по Генриху Батищеву. То, что Просвещения не было, подтвердил мне Библер: но это прекрасно, — говорил он, — раз Просвещения не было, значит, оно неминуемо предстоит! Я любил парадоксы.
Общее знание где-то здесь, но где вход? Туда вели два портала, две тропинки. Один — марксизм подлинного. Я был необыкновенно впечатлен, узнав про овеществление сознания, его превращенные формы и «ложное сознание». Но как трактовать политическую реальность вокруг? Которую мы, кстати, социальной реальностью не считали… Вообще, имя системы было большой проблемой для меня и нашей коммуны. Союзом, коммунизмом или советской властью это назвать было жаль… Назвать империей? социумом? системой? Так и не пришли к конечному выводу. Но знали, что вместе с жителями СССР составляем государственное тело, которым движет загадка его существования. А у загадки должна быть теория. Диалектика снесла мозг — истина есть процесс!
Второй портал — Восток внутри: йога, психопрактики работы с собой, самоочищение. Я бегал на лекции Ал. Леви, который еще тогда, полвека назад, приезжал в Одессу, уже в роли йога. По рукам ходили топоровская «Дхаммапада» и перевод «Бхагавадгиты» 1960 года, Юнг, Шелтон, Фромм, Брэгг. Из публицистики new left 60-х знал главное о психоделике Тимоти Лири — что она революционна… Мой Восток пришел ко мне и на украинском. Было в 50–60-х такое литературное направление, сейчас бы его назвали магическим фэнтези, — в книгах дважды отсидевшего в лагере украинца Олеся Бердника и Миколы Руденко. То была космическая магия с обетованиями света и личного преображения. Конгресс сил света однажды соберется и установит саттвический коммунизм, изгнав захвативших власть обезьян Мары. За это Бердника и Руденко наконец посадили еще раз, но их книги выходили на украинском языке совершенно свободно — отсюда я, собственно, знаю «мову».
Весь этот сумбурный «Восток внутри» сообщал, что главное препятствие внутри тебя самого, и я не пробьюсь к знанию, не расчистив завалов внутри. Собственно, и идея критической теории появляется поначалу как аутотерапия, обращенная внутрь — к «неподлинному я»; лобовая политическая критика была пресна. «С нами Фромм!»
Каким-то образом молодость и жажда истины все это совмещали. Хотя я ценил трезвую аналитичную речь и публицистику жесткого стиля, с которой знакомился по переводам «Иностранной литературы» и «За рубежом» — Ясперс, Стейнбек, Бёлль… В то же время чувствовал, что остается какой-то принципиально непрозрачный для сознания пласт, который надо прояснить, не пытаясь рационализовать.
Григорий Соломонович Померанц с 60-х вносил важную добавку в мой активизм. В тогдашнем представлении власть все портит, однако вся культура, все события, история — у нее. Кромвель, декабристы — во власти истмата. Ты можешь не соглашаться с тем, как та это рассказывает, но все равно она этим владеет. Померанц пришел и сказал: нет, все у вас, а не у власти… если ты интеллигенция. Он создает мобильный несессер интеллигента, подобный аптечке автомобилиста: Конфуций, легисты, гуманизм царя Ашоки… Этот набор сегодня так же смешон, как семь слоников на комоде, но тогда им возвращали себе узурпированное мировое целое. «Несессер от Померанца» давал право утверждать, что многое в СССР извращено. Что структуру общества диктует доктрина культуры, а не социальность. Что «классы» есть только на агитплакатах, зато реальны культурные типы-мутанты. Померанц роскошно описывал их через образы русской литературы.
Гефтер разом сдвинул в сторону весь этот мой New Age. Правда, склонность к самоанализу, вскрытию неявных схем и симптома осталась.
Гефтер давал мне свободу действовать, отсылая за обоснованием действия к его знанию. Мне не пришлось самому анализировать тексты, поскольку он сам поднял документацию XIX — начала ХХ века. Например, о политике Витте, на анализе которой выросла идея Гефтера о русской многоукладности как разновекторности развитий, подобной «теории струн». Меня завлекала его мысль о том, как Витте инкорпорировал передовое в архаическое — укрепляя синдикатами самодержавие и патримониальный строй, смело включая в него инородные элементы. Это было странно созвучным «Сумме технологии» Лема и понравилось мне как технология. Гефтер реально проработал эту историю и всю статистику, в подробностях. Его идеи — не он сам! — подсказывали мне, что надо плотней давить на реальность, чтобы раздвинуть ее векторы.
Я легко и быстро отказался от научной карьеры. Мечты одесского мальчика об аспирантуре были разрушены, едва я попал в Москву и увидел, что тут творится. Был апогей погрома гуманитарных наук, с начала 70-х шедшего широким фронтом.
Первое сильное впечатление — разгром социологии. Из Одессы вез самиздат для передачи кому-то в ИКСИ. Приехав туда, я прочел в фойе в стенгазете разбор какой-то брошюрки с перечнем ее идейных грехов, где последним пунктом значилось: «Ученый совет ИКСИ принял решение тираж брошюры такого-то уничтожить и сжечь». Это «уничтожить и сжечь» я запомнил буквально, с подписью — «Ученый совет ИКСИ». То же было в издательстве «Просвещение», то же — в искусствознании и в Институте философии.
Погром в истории имел вид Хиросимы. В 1969 году уничтожили единый Институт истории, разбив непокорный на два тухлых ублюдка, прозябающих по сей день. Это поставило сектор Гефтера — Сектор методологии — вне новой оргсхемы, после Гефтера добивали уже в огрызке Института истории СССР. У всех, к кому я ни приходил, лежали рассыпанные гранки остановленных к печати сборников, я зачитывался. Но раскол на тех, кто примет новые правила, а кто нет, состоялся. В 1973-м я вежливо отказал Генриху Батищеву в духовном руководстве — после того, как милый Генрих заклеймил «активизм» Солженицына. И я тихо соскользнул внутрь гефтеровского аутсайдерства с его способом мыслить в одиночку — к его беседам, к его списку тем.
А.Ф.: Вопрос на дополнительное выяснение. Из всего, что я услышал, одна область, которая, на сегодняшний взгляд, должна была появляться в рассказе, все же не появляется. Я имею в виду музыку. Это случайно или музыка тогда не играла никакой роли? Речь идет не просто об эстетических пристрастиях, а о значении новой музыки, борьбы вокруг новой музыки и о воспитании через музыку.
Г.П.: Наша среда в Одессе была амузыкальной. Музыку в моей жизни выдавила поэзия и проза. Даже барды 60-х долго меня раздражали: Высоцкий и Окуджава, хрипевшие из каждого одесского окна, казались мне частью атмосферы масскульта. В том, что я покупал и ставил пластинки Вивальди и Баха, — общесредовое образованское, я ничем не отличался от тогдашней среды. Галича и Высоцкого оценил много позже, а новая музыка 60-х прошла мимо вся целиком.
А.Ф.: И среда ее не навязывала? Для меня здесь важнее ваших вкусов то, играло ли это роль в тогдашней вашей среде?
Г.П.: Нисколько. На моем университетском курсе не было никого, кто бы западал на «Битлз» или «Роллинг Стоунз». Средовое давление пришлось на годы рок-н-ролла, в 50-е. Но это было еще в начальной школе, потом все ушло.
А.Ф.: То есть ставки на новое искусство в этой среде не было? Ей не принималась та новая левая идея о том, что разные формы авангардного искусства могут быть тем самым прорывом (будь то в версии Адорно или Маркузе)? Грубо говоря, новое искусство само по себе не обладало освобождающим потенциалом?
Г.П.: Не для меня, в нем подозревавшего «консьюмеризм». Одесса 60–70х была городом сильных художников. Я отказывался ходить в их мастерские, напрягала богема с ее амбициями, вермутом и похабелью; я брезговал. К тому же пьянки были нашпигованы стукачами.
А.Ф.: Возвращаясь к началу, я не могу не отметить для себя какого-то когнитивного диссонанса. Сам по себе нарратив безупречен, но он не вполне когерентен по отношению к той коррекции, которую вы сделали по отношению к моему первому предположению. Все равно появляется ощущение, что есть некое высшее теоретическое знание. Оно может быть в форме восточной философии или в форме просвещения…
Отдельный интересный вопрос — что понимает Библер под просвещением. Возможно, этому стоило бы посвятить отдельный разговор.
Г.П.: У Библера была мысль об образах культуры. Каждая культура — некий мировой образ, независимо обитающий, как он говорил, в «палате ума», и его можно интериоризировать, как твой внутренний голос.
А.Ф.: Да, учреждение такого шизофренического внутреннего диалога — это одна из его известных идей.
Г.П.: Я даже написал ему наивное эссе с критикой принципа терпимости. Но ценней и наисильнейшее впечатление произвела одна-единственная маленькая статейка Библера о его понятии факта как события. Называлась она «Исторический факт как фрагмент действительности». Он изложил именно то понятие События, с которым Гефтер, на мой взгляд, тогда работал практически. Главная мысль, как я ее понял, — историк не «описывает» реальность, он ее восстанавливает и, замыкая «тогда» на «теперь», спасает полноту событий.
А.Ф.: Очень хорошо. Повторю то, что вначале очень мощно прозвучало, но потом ушло на задний план. По отношению к обычным людям нет никакого комплекса превосходства, они являются в целом носителями некоторого совокупного знания. Хорошо. После этого мы узнаем от вас про превращенные формы сознания, про мистику, про овеществление, мы проявляем аналитический интерес к Фрейду. И по всем законам, божеским и человеческим, отсюда должно следовать различение уже не только подлинного и неподлинного знания, но подлинного и неподлинного существования и, соответственно, поиск для себя существования подлинного. Как ни крути, это означает опознание неподлинного существования в других.
Г.П.: О, да! Но вы меня про это не спрашиваете, и я про это не говорю.
А.Ф.: Я как раз про это отчасти спрашивал. Тут же мы по маленькому обломку когтя воссоздаем всего тиранозавра, достаточно пары обмолвок. И я с удовольствием это сейчас еще раз услышу, уже в развернутой, в полной форме, если это не противоречит вашему замыслу. Мне бы хотелось прояснить вот что. Допустим, что субъектом знания в целом является некая коллективность, некое множество людей. Этого слова не было, я это помню, но допустим, что оно было бы использовано. Вы говорили, что было трудно назвать окружающее. Слова «советская власть», «империя», «социум» не годились. Точно так же и я сейчас пытаюсь избежать заезженных слов.
Возможно ли реконструировать вашу мысль таким образом, что люди вокруг — не актуальные, а потенциальные носители этого подлинного знания? Для того чтобы произошло некоторое совокупное обретение этого знания, в конечном счете, должен быть совершен некоторый освобождающий переход. Лишь тогда то, чем они являются потенциально, реализуется в полной мере. И тот, кто совершает эти операции освобождения, может быть назван просветителем. Это не романтический герой, возможно, это революционер, а не просто просветитель. Собственно говоря, он — опять плохое слово! — посланец будущего, который от имени того, чем люди могли бы стать, выводит их из того, что они есть. Он отчетливо осознает, что полноценное состояние (обобществившееся человечество, по Марксу) реализует в себе вот эту полноту знаний, полноту существования. Был такой момент или эта реконструкция тоже неудачна и схематична?
Г.П.: Конфликт подлинного с неподлинным был главным. С акцентом на улики неподлинного, чему было больше примеров. Поиск подлинного идет как поиск субъекта активности, с отсечением всех форм соучастия в ложном. Мы не зря назвали свою одесскую коммуну СИД — «субъект исторического действия». Акцент был не на свою амбицию, а на доказуемую субъектность. Та должна быть найдена отбрасыванием неподлинных оболочек — репрессивно-социальных и официозных вовне, потребительских и коллаборантских мотиваций внутри.
Что из этого вышло при столкновении с реальным активизмом? «Мистика подлинного» оттесняется повесткой активизма — инакомыслия как братства. У Сопротивления нет конечного смысла, оно не цель, а просветительное сообщество ради будущего.
В 1973 году, отмечая пятилетие «первотолчка» 1968 года, я сам себе отчитался в успехах: итак, у меня все получилось! Открыв марксистскую диалектику, найдя Гефтера, самиздат и мир Движения, я получил уже больше, чем просил у судьбы. Биографически это был успех. Но возможен ли успех инакомыслия? Здесь уже вопрос не о частном, а о Большом чуде. Было же чудо 1917 года, с краткой реальностью власти Советов? Я про это узнал, как ни странно, из переведенной на русский язык книжки Ясперса «Куда движется ФРГ?». Я сразу увидел в этом образцовый политический текст, которому тогда не было аналогов в советской печати. Был потрясен тем, как можно писать о политике. Вот то, чего я хочу, вот достойная политическая речь. Ясперс, как римлянин, судит о делах своей немецкой Res Publica. И говорит правительству: если дела не изменятся, нам, немцам придется вводить в ФРГ советскую власть — свободные граждане вправе создать Советы… Разве не чудо смерть Сталина и ХХ съезд? Еще пример чуда — 1968 год, Дубчек, Чехословакия, где невозможное оказалось в зоне достижимого. О политическом чуде стоит позаботиться.
А.Ф.: Слово это тоже произносилось? Или для него использовались какие-то эвфемизмы, оно казалось слишком неподходящим?
Г.П.: Чудо? Слово использовалось как метафора, в связи с ХХ съездом и хрущевской реабилитацией. Чаще его синонимы: моральный прорыв, власть альтернативы, практика невозможного. Термин невозможное был ключевым. У Гефтера есть элегантная теория действенности невозможного в теле мировой истории.
Я знал, что момент смены состояния страны чудесен, как воскрешение, и не экстраполируется из предыдущего. Но до чуда реальность надо дожать, упорствуя. Восточная мантра, которую я впервые услышал от друга в Одессе в 70-е, — «Когда пирамиду достроят снизу вверх, ее вершина спустится сверху вниз сама».
Итак, чуда не ждут, а наращивают утопический нажим поступков. Залог чуда — само бытие диссидентства, проклинаемого властью, но неуничтожимого. Считалось, что диссидентство решило неразрешимую проблему: страна спасена от анти-политики. В СССР создавать что-либо антисоветское было скучным видом самоубийства. Но — вау! — мы сделали это! Прямо на глазах у КГБ выстроили то, что ему противно и с чем ничего не могут поделать. Падение председателя КГБ Семичастного в 1967 году при попытке заставить Политбюро раздавить инакомыслие силой считали триумфом неполитической силы Движения.
В 70-е я сильно вовлекся в драматургию Движения. И под занавес его догадался, что чудо близко, но оно опасно! За год до ареста в уме моем начался переворот. Я понял: к Событию надо себя готовить, даже когда оно надвигается само. Что диссидентство не готово к чуду, которое оно готовит.
Летом 1981 года я путешествую по стране с книжечкой Аурелио Печчеи. Описанием, как он скрупулезно-интригански создавал Римский клуб, вколачивая в западные головы мысль об ограниченности ресурсов («Человеческие качества», русский перевод 1980 года). Где-то под вокзальной скамейкой на меня мешком падает осознание того, что: а) чудо строят — а мне строить его не с кем, б) оно скоро случится в реальности, а я не знаю реальность и в) ergo — чудо придет вместе с катастрофой. Социальной-то реальности советской системы я не знаю! Реальностью завладела власть, так, может быть, она что-то знает? Ее сила — не в КГБ, а в инстинктивном чувстве системы, где Андропов сильней и меня, и Солженицына. С этой сотрясающей меня идеей я в 1981 году отправляюсь агитировать диссидентство за диалог с Политбюро. Что обрывается арестом 1982-го.
Перед арестом я запоем читал книги по теории управления, по кибернетике. Моими героями вместо Че Гевары стали Акофф, Рене Том и Стаффорд Бир. Советская система связана, в ней нельзя изменить политический блок, не затронув всего. И если полезешь в эту систему с нищим набором либеральных отмычек Движения, Союз посыпется. Рухнет заодно и мой шанс Республики. Но мы же всегда говорим, что не заинтересованы в разрушении СССР? Об этом я пишу в открытых наставительных письмах Движению и в открытых же невыносимо дидактичных письмах Политбюро. Своими письмами я, кажется, всех «достал». Различие «подлинное — неподлинное» превращается в бледное, слабое, слишком лобовое различие. Я ухожу на зону, понимая, что с этим всем придется разбираться заново.
А.Ф.: Мне кажется, тут очень существенное дополнение к предшествующему разговору. Там у меня было ощущение растворения целей в стихии чистой деятельности. Здесь, при пересказе событий того же периода, целевая составляющая становится более ясной. Она приобретает, несмотря на то что она была впоследствии подвергнута диалектическому отрицанию, более внятные черты.
Здесь я не хочу проскочить вот какой момент. Когда разговор идет о чуде, мы понимаем, что, хотим мы этого или не хотим, но чудо — такая категория, которая непосредственно переносит нас в мир, как мы бы сказали на современном языке, политической теологии. И несколько раз повторенная тут сентенция, что надо упорствовать, долбить, не думая о том, что из этого получится, в конечном счете напоминает идею синергии с Богом: он имеет некоторые замыслы, мы не можем знать, какие, но в тот момент, когда он решит свой замысел реализовать, все должно быть готово. До известной степени это милленаристский взгляд. Я понимаю, что, скорей всего, в этой среде, в этой коммуне, где вы жили, у него не было явной теологической составляющей. И вряд ли вы говорили с Гефтером, скажем, по поводу того, есть ли у Бога замысел о мире.
Г.П.: У Гефтера прямой интерес к теологии просыпается не раньше середины 1980-х. Хотя термины вроде Евангелия от Пилата он использовал раньше. Наш разговор о Боге оказался нашим последним разговором, за две недели до его смерти в 1995 году.
А.Ф.: Но сейчас мы ведем ретроспективу. Сейчас для вас это точно так же не чужая тема. Я не уверен, что вы могли и хотели бы о ней много и публично говорить, но можно совершенно быть уверенным в том, что она не является экзотической, чужой, безумной. И вот в этой ретроспективе опознаются черты революционных движений, какими довольно часто в истории человечества были, например, религиозные секты. Что можно сказать при взгляде из сегодняшнего дня?
Видите ли вы в движении нечто исторически уникальное или все же имелись исторические прецеденты не только ближайшего плана (перекличка с Чехословакией, например)? В более широкой исторической перспективе, виделось ли вам что-нибудь в таком роде: огромная страна, просвещенное, тщетно колотящееся о стену меньшинство, ощущающее, тем не менее, как ни крути, свое призвание? Это же не беспрецедентная ситуация — это повторяющаяся ситуация в истории человечества. Или подобного рода параллели вы бы не хотели проводить?
Г.П.: Я уже говорил о народниках. Моим первым политическим чтением, еще школьным, были их книги с акцентом христианского анархизма — «Подпольная Россия» Степняка-Кравчинского, «Письма» Петра Лаврова, «Отщепенцы» полковника Соколова с выстроенной там линией «от отщепенца Христа и Златоуста до отщепенцев Мора и Мюнцера». За книжицу полковник схлопотал Шлиссельбург, откуда бежал. До переезда в Москву я и сам был мистическим анархистом, считая инакомыслящих переизданием «критически мыслящих личностей» Лаврова или «сектаторов, знающих свою миссию» Соколова. Процесс над Ларисой Богораз и другими демонстрантами Лобного места в 1968 году сливался для меня с процессом Веры Засулич в 1878-м, а ярчайшим событием русской истории я считал хождение в народ 1874 года. Которое было попыткой буквального прочтения и политизации Псалтири.
Но можно ли считать диссидентство крипто-религиозным движением, глядя из сегодняшнего дня? Я затрудняюсь.
А.Ф.: Это часть вопроса. Я действительно начал с этого, но такой вопрос оказался более узким, чем мне показалось сначала.
Еще раз: Движение — это некоторая беспрецедентная вещь в истории значимого для нас человечества? Или теперь, оглядываясь, мы видим, что и отдельные события, и проделанная Движением эволюция на что-то походят? Придает ли это дополнительный смысл, дополнительное измерение личной истории, личной истории как части социальной истории?
Или сама постановка этого вопроса невозможна? Для меня тут важен любой ответ. Например, ответ может быть и таким: подобная постановка вопроса бессмысленна, он ничего не дает. Для меня это тоже было бы важно, мне хочется знать, как это для вас на самом деле.
Г.П.: Нет, интересный вопрос, и интересно, что он не приходил мне в голову. Движение вообще не любило сравнивать себя с другими. Иногда что-то вспоминали про «гандизм», но амбиция уникальности пересиливала. Я помню, в моменты, когда нас с кем-то сравнивали, было слегка обидно, даже если я признавал правоту сравнения. Когда эмигрант из Аргентины, ныне профессор Сорбонны, Клаудио Ингерфлом говорил мне: понимаю, вам тяжело, а все же у вас студенткам мышей во влагалище не зашивают, как у нас в Буэнос-Айресе.
Вообще мысль о том, что из русского инакомыслия исходит радиация новых идей, для будущего поощрялась приезжантами с Запада, как молодыми троцкистками, так и маститыми персонами. Хорошо помню, как Генрих Бёлль говорил Льву Копелеву: именно вы в СССР возродите идею свободы для Запада. Они приезжали в Москву подышать, на Западе для них был застой, а Москва жила духовной, жертвенной жизнью. И Движение видело себя этаким «сияющим градом на холме».
В то время был теологический подтекст, который мы чувствовали, не обсуждая. Смысл его — в тайне, как стало возможно столь иной интенсивности действие, вторгающееся в духовную судьбу России и мира? Из московских кухонь шлюзы вели в нечто большее, чем только «реформа Советского Союза». Москва считала, что имеет приоритетный доступ к глобальному спасению или даже, говорил Гефтер вслед Гегелю, к «Голгофе Мира». Это нелегко повторить из современной Москвы, не выглядя смешным.
А.Ф.: Это тонкий момент, но слово все равно прозвучало. Как ни крути, вопрос о спасении все равно должен был вставать, даже для атеиста. Для верующих это, возможно, менее важный вопрос: они и так знают, как они спасутся. Все остальные должны каким-то образом частично отвечать на этот вопрос. Как известно, в Философской энциклопедии, 5-й том которой вышел в 1970 году, статья «Смерть», написанная Пиамой Павловной Гайденко, кончалась словами (цитирую по памяти): «В марксизме проблема смерти не существует». На самом деле это, конечно, не так. Еще как она существует. Это совершенно издевательские слова, которые можно трактовать очень по-разному. Эту статью все знают, в частности, именно по ее скандальному завершению. Еще у меня сидит в памяти, что где-то в начале 80-х Лифшиц опубликовал статью в журнале «Коммунист», в которой рассуждал о том, какой смысл может быть у истории, если сейчас свалится атомная бомба и все пожрет.
Я как раз поступил в аспирантуру и ходил на семинар к Виктору Вазюлину, на философский факультет МГУ. Вазюлин пользовался бешеной популярностью среди некоторой части студентов, в том числе и моих друзей, благодаря своим знаниям, конечно, но прежде всего — логической непреклонности. Мое общение с ним быстро закончилось в 1981 или 82-м году, когда я, отвечая на какой-то из вопросов, вспомнил эту недавно опубликованную статью Лифшица, где тот на вопрос о конечном смысле существования человечества отвечал цитатой из «Энеиды» Вергилия: Fuimus! (У Вергилия, собственно, Fuimus Troes). — Мы были! Мы, троянцы были, Троя была и великая слава троянцев — если не поэтически, а буквально переводить эту строчку. Отсюда — так я тогда понял Лифшица (и не опознав тогда Вергилия) — следовало вот что: а не один ли хрен, что потом. Ну, взорвутся звезды, ну, упадет атомная бомба, ну, исчезнет все человечество, но высшие его достижения: возрожденческая живопись, музыка Бетховена, философия Маркса — все равно уже остались навсегда, это уже состоялось. Это один из ответов атеистического марксизма на вопрос о спасении.
Г.П.: Ну, у Маркса есть эзотерика поглубже, в теме освобожденного времени/труда, с освобождением материи.
Интересно, что с начала 1980-х официоз начинает поощрять именно публицистику «лишь бы не было войны», вокруг которой сложилась клика нового мышления: пойдем на все, что угодно, но отвратим ядерную зиму! Это поощряли из ЦК. Статьи Адамовича и Карякина печатают в «Правде» еще при Черненко, рядом с ужастиками от академика Моисеева про ядерную зиму. Меня безумно раздражала установка на превентивную капитуляцию. То, что у Лифшица имело стоицистский регистр, у Карякина с Нуйкиным звучало «лишь бы сдаться поскорее».
А.Ф.: Да. Естественно, я по молодости и неразвитости плохо ловил какие-то вещи, но на меня статья Лифшица тогда произвела очень сильное впечатление. Запомнил я этот тезис еще отчасти потому, что после этого разговора мне было нечего делать на семинаре Вазюлина. Там подобные умствования не поощрялись, его это крайне раздражило.
Дальше начинается очень интересная тема, к которой вы чисто биографически перешли. Я себе представляю, если сейчас начать развертывать: реальное устройство советской жизни, реальная проблема воздействия через знание. Чье знание? Как сказал бы Фуко, мы опознаем власть и как знание. Это принципиально важный момент, потому что противопоставить себя, знающего, невменяемой власти уже не получится. Естественно, возникает совершенно другая интерпретация вхождения в процесс — после того, как ты понимаешь, что имеешь дело не просто с замшелыми тупицами, а с определенным комплексным устройством, в котором нельзя заменить произвольно какую-то штучку, чтобы не посыпалось все остальное. Это огромная тема, и мне бы не хотелось ее профанировать сокращенным изложением. У меня ощущение, что из наших двух разговоров образовался некий смысловой комплекс. И, может быть, имело бы смысл потратить несколько минут на подбивание каких-то колышков, зафиксировать картину, а не пытаться захватить еще одну тему…
Продолжение следует
Читать также

Вторая беседа. Практическое знание, подлинные и неподлинные суждения (часть 2)
Переход от советского к постсоветскому затронул многие чисто ценностные сферы: новый фрагмент бесед Глеба Павловского и Александра Филиппова.

Беседа первая. История с биографией. Этика компромисса (часть 2)
Этическое решение — часть политического действия, его победоносности или поражения. Но как угадать, что оно с собой несет?





Комментарии