Михаил Гефтер
Смерть-Гибель-Убийство
Книга М.Я. Гефтера, изданная в 2000 г. в серии «Весь Гефтер».
 19 543
19 543 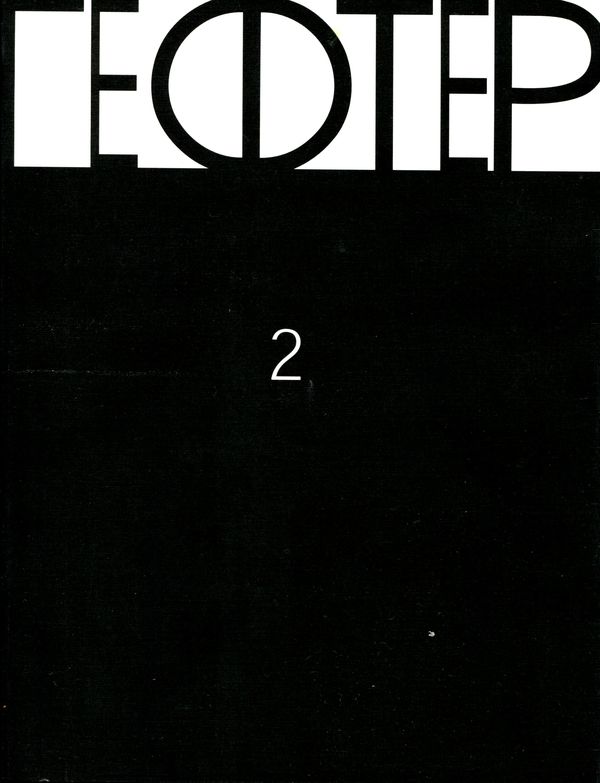
Одаренные школьники, переходя в университет, чувствовали себя «на коне» — даже в том случае, если до того не были баловнями судьбы (трое из названных выше испытали либо неустройства семейной жизни, либо удары по ней извне). Но не парадокс, а черта времени вместе с законом возраста: их тянуло к успеху. А успехи на умственном поприще, весьма заметные и заслуженные, рождали уверенность в призвании и естественное тяготение к себе подобным, очерчивая некий круг не то чтобы избранных, специально и напоказ обособленных, но и не без примет этого. Так было или только мнилось тем, кто находился вне этого круга и кому пребывающие в нем, по крайней мере некоторые, казались зазнайками или снобами?
Но вот оборвалась прежняя жизнь, а новая предъявила и новый счет. На войне им предстояло либо «скиснуть» — стать хуже — себялюбивей, самосохранней, либо распрямиться, чему нет точного, единого для всех названия. Без малейшего сомнения: они стали лучше и оттого — в последнем счете — самими собой.
Вот отклик нашего товарища, который был на десяток лет старше большинства, притом слова эти им сказаны не далеким задним числом. они из письма, помеченного началом 1942 года, когда он, переживший катастрофу, после плена и бегства из него, после мужественного прорыва к своим впервые написал о себе своей однокурснице, с которой был вполне откровенен.
«Вспоминая о том составе [дивизиона, где служили истфаковцы, а “ведущим ядром был наш курс”. — М.Г.], я все более и более убеждаюсь, что он был идеальным». И дальше: «Не могу не написать о них. Саша Осповат стал неузнаваемым. Во время учебы я к нему относился довольно холодно (деликатное выражение). Здесь же наоборот. Все трудности походной жизни он переносил прекрасно. Стремился закалять себя. Он был своего рода нигилист, так, например, удивлялся, почему наших посылают сейчас на работу (в школы и т.д.), тогда как их можно использовать на фронте или для фронта. Мы ему так и не смогли доказать, что нельзя допустить, чтобы росло неграмотное поколение (я это испытал на себе, учась во время гражданской войны). Наводчик он был боевой. Работал очень быстро».
Для Саши Осповата понятие само было непререкаемо важным, означало четкость цели, контроль над собой, постоянный умственный труд и необходимое ограничение, уважение к знающим, но не до утраты своей независимости в суждениях, а напротив, во имя ее. Трезвость? Да. Но не за счет духа.
Такие, как он, само собой, не Обломовы. Но и не Штольцы. Уже не Рахметовы, но еще не… Открытый вопрос. Быть ли позитиву столь же определенным, как это отрицание, производимое к тому же задним числом?
Одно несомненно. Гибель их лишила нашу жизнь не только талантливых одиночек, но целой генерации, в недрах которой копилось, зрело еще неведомое им самим сопротивление давящей одинаковости идеала. Война — не во имя этого сопротивления, но она и это. Не потому ли столь редка в письмах наших друзей патетика патриотизма, а он сам, скорее, укором себе, для которого заведомо нет основания?
«А мальчик уже считал себя почти героем, — это Муся Гинзбург в собственный адрес. — Утешаюсь, что когда-нибудь все-таки буду на фронте, но пока неприятно — сидит в тылу [так именует он ополчение! — М.Г.] здоровый парень, а уже где-то идут бои, умирают люди, может быть, и мой Юрка [Бауэр] уже там».
«Родная моя, не сердись, что я нервничаю, но ты поймешь меня, что станешь фаталистом, если просидишь без всякого дела […] в то время как моя любимая ждет меня за тридевять земель, в то время как в 70 км от тебя льется кровь. На людях я не нервничаю, я официально-спокоен. И не сижу сложа руки» [Игорь Савков — жене; последние слова подчеркнул сам. — М.Г.].
Да что отдельные строчки, выдержки, отрывки. Непохожесть манер и чувствований не только сближает их, но и оттеняет родовые черты. Кто менее схож был, чем Муся и Игорь, — и в письмах, и в жизни? Первый весь как бы нараспашку. Всегда немножко голодный, всегда безнадежно влюбленный, всегда готовый читать свои и «чужие» любимые стихи — ну чем не классический тип поэта, может, не всякий раз оригинального рифмами, но выговаривающего ими самого себя, свою «жизнь без проповедей», как сказал некогда Илья Эренбург о Франсуа Вийоне — родоначальнике всех неунывающих несмотря на не проходящую грусть. Муся раньше других однокурсников и однокурсниц одинаковой с ним судьбы ощутил удары судьбы, отнявшие у него отца и старшего брата. Однако он не ответил на жестокость ожесточением, на вероломство — притворством и затаенной ненавистью. Детство и семья, сверстники и Слово заложили в его душу такой запас доброты и веры, жажды дружеского общения и любви, каких хватило бы надолго…
Навсегда? Не знаем. Не в силах угадать. Любой ответ отдалил бы его — такого, каким он ушел, еще не определившись и не спеша определиться раз навсегда. Он ушел стойким и беззаботным, снисходительным к друзьям и упорным в своих высших привязанностях и принципах. А перед глазами — чудом сохранившаяся тетрадка его повзрослевших стихов (1939–1940) и письма из ополчения, какие назвать стихами в прозе будет вовсе не натяжкой.
…Да, они были как будто совсем непохожи — Игорь и Муся, Саша и Ян, члены одной семьи. Кого потеряли в них мы — и все? Ученых? Поэта? Нежных и умных отцов? Мужчин, способных пронести дружбу через всю жизнь? Людей!
Двое погибли почти одновременно, в октябре 41-го, после двухдневного жестокого боя близ Ельни, во время отхода ополченцев, брошенных в самую горловину немецкого танкового прорыва. (Об Игоре — рассказ особый: судьба его разъяснилась лишь в начале 90-х). Четвертый, Ян Пинус, вырвался из кольца, вернулся в строй, воевал до августа 1944-го, участвовал в освобождении Польши. В деревне Долбня Радомского воеводства его имя на братской могиле. Он писал всем однокурсникам, чей адрес имел, — писал, пытаясь выяснить участь каждого, касалось ли это обстоятельств гибели либо подробностей жизни, которая продолжалась и на фронте, и в тылу. Он был простосердечен и взыскателен; от письма к письму становился своего рода летописцем курса, и все свойства его взвешенного, аналитического, ответственного ума имели теперь точкой приложения сверстников, входящих в историю. Автор отличной работы о герценовских «Голосах из России», вспоминал ли он в своих фронтовых занятиях слова Искандера, предпосланные третьей книжке этого издания: «Мы очень малы, но нас трудно застращать категорией количества и величины […] Вселенная состоит из точек, из клеточек, а не из глыб, не из пустых пространств»?!
Нам, выжившим и живущим, он — своей настойчивостью, своей требовательностью помнить павших, измеряя всякий текущий поступок их судьбой, — сберег их и себя живыми.




Комментарии