Михаил Гефтер
Смерть-Гибель-Убийство
Книга М.Я. Гефтера, изданная в 2000 г. в серии «Весь Гефтер».
 19 508
19 508 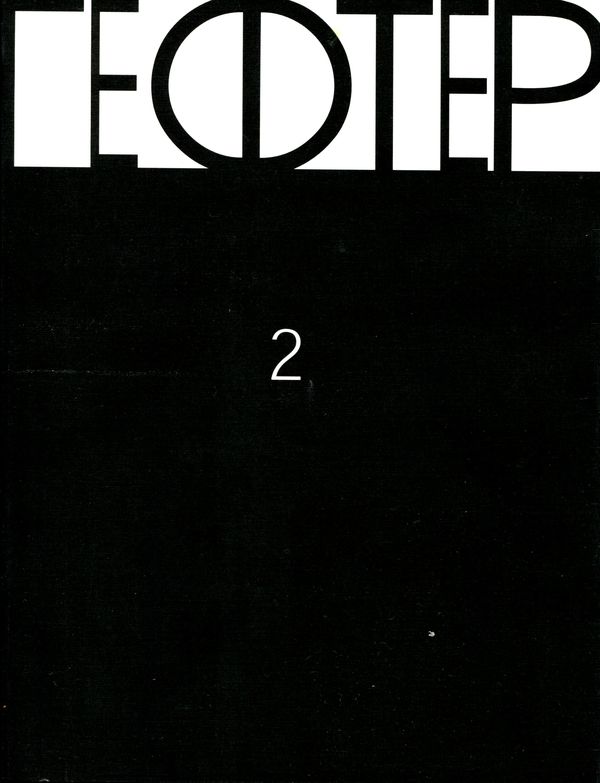
ВЕКТОРЫ
Три понятия —
с м е р т ь,
г и б е л ь,
у б и й с т в о.
Будто тождественны.
Телесной развязкой — да.
А переживанием, постижением,
переводом в поступок?
Смерть «попрать» можно лишь ею же —
постигнутой, введенной в жизнь
как ее условие.
Гибель — погранична, предельна.
Она — заострение «попрания», защита его
от лицемерных игр,
чернильных etc. уподоблений.
От Пушкина к Пастернаку — гибель
в «архетипе» русской культуры.
И избегание ее также.
Гибелью поправ убийство?
У избегания свои полюсы
мужества и трусости,
эгоистичного привирания мотивов.
Откуда-как пришли Словом — смыслом
смерть Жизнь
рабство Свобода
абсурд Истина
На исходе ХХ века не открытие: Вселенная конечна, не беспредельна жизнь, как и одно из ее порождений — вид Homo sapiens. Вопрос времени. Однако, что это в сравнении с «текущими» напастями, подстерегающими людей? Добившийся потрясающих успехов в продлении сроков индивидуального существования, человек достиг еще большего в досрочном пресечении жизни себе подобных.
Убийство вырвалось из зоны преступления, предъявляя заявку на Землю, — всю.
Правда, Нюрнберг не забыт. Кто ныне рискнет утверждать, что трупы на пользу, что этнические и им подобные чистки всего лишь проявление видовой гигиены, предохранительный клапан, уберегающий от сдвоенной экологической и демографической угрозы?
Но вровень ли нравственное табу и санкции международного сообщества, а ему дано пересилить кровавые схватки родословных?
Вид Homo действительно загнан в угол. В существенной, хотя не исчерпывающей мере, сам себя загнал. Пропускаю «промежуточные» соображения и предваряю итог: в составе нынешней предгибельной коллизии не столько недостаточность ответов и предлагаемых выходов из положения, сколько коренной изъян вопрошания. Мы не дотягиваем до «вопроса», вернее, вопросов. Упор на «опасности» (пусть даже «смертельные») вуалирует их природу: показанность развитию.
Заглянуть в первоначало. Две черты, резко
отделяющие предка от до- вне-человеческой
жизни: у б и й с т в о и а б с у р д.
Превозмогание — суть человек.
«Пара»: вызов («грех») и запрет (табу).
Слово, речь — рубеж. Гомо уходит от
себе подобного и возвращается к нему,
защищенный Словом.
Человек непонятен себе. Он боится
этой непонятности. Он силится открыть
эту неоткрываемую до конца
и возобновляемую тайну.
Культура — сны и культура —
добывание тайны.
Возобновляемы и убийство, и абсурд.
Превозмогание — путь, а значит и распутица.
Я могу не знать, что было там и тогда, когда
Гомо заговорил, испытал потребность
запечатлеть «то, что было», etc. Но не знать
о Сократе и Иисусе,
о Платоне и Павле значило бы отказаться от
знания о себе, от себя.
Но и это знание вторично.
Первичное же — ХIХ — тот, что взрывал
себя, отрицал себя, переходя в ХХ:
Лениным и Ганди, Эйнштейном и Бором,
Сталиным и Мальро, Швейцером и Корчаком,
Гитлером и… Трудно идти дальше.
Дальше — для меня —
Дубки под Симферополем, где в одночасье
вырубили корни.
Дальше — Саласпилс. И Шостакович.
И Бёлль. И наши мальчики.
Дальше самое простое и самое неизвестное.
Что проще и неизвестнее смерти
от людских рук?
Человек, терпящий поражение, — это, в сущности, каждый из людей, ибо что такое знание неизбежности своего конца как не признание собственного поражения?
Но мы избегаем этого знания — либо сознательно уходим от него — жизнью. В том и в другом случае — жизнью, но сколь громадно различие: избегаем или сознательно уходим, превозмогаем. В каком-то конечном счете все определяется им.
Без понятия смерти нет и особого понятия «жизни». Сначала человек открыл смерть и лишь затем (и если даже сразу, то все равно — затем) жизнь. Не в этом ли тайна первозданного искусства? Тот неведомый, кто забирался в почти недоступные уголки пещер, чтобы в полутьме наносить на неровную поверхность стен эпизоды, потрясающие своей сверхточностью и полнотой бытия, — что навлекал он на сородичей, соплеменников, со-людей: успех в охоте, удачу в схватке или просто — жизнь, жизнь как таковую?! И не в этом ли индивидуальном призвании, от которого не в силах был уклониться «однажды» ощутивший его, резче другого выявилась, дойдя до нас подспудно, не считанным временем нарождающаяся, становящаяся социальность: особенная связь, еще не против «крови», но и не только кровная, — связь, не имеющая наперед данного предела, навсегда установленного лимита (в пространстве людей)?!
Впрочем, рядом с «немым» языком существовал и звучащий и, вероятно, было бы большой натяжкой ограничивать его первофункцию потребностью в сообщении. Нет, судя по всему, нечто, заложенное в Гомо, влекло его просто к общению — без прямой нужды, «избыточному» для голого самосохранительного инстинкта, — влекло к нераздельному общению с живыми и с мертвыми, и с теми, кому еще предстояло родиться. Открывший смерть только Словом мог отстоять первенство, суверенность, нескончаемость жизни. Не потому ли Слово изначально и по сей день единственное, что без оговорок с и н о н и м ч е л о в е ч е с т в у как способности и стремлению к взаимному пониманию, для которого норма — неистребимость различий.
Погруженность в жизненный обиход сама по себе не принижает человека — это одновременно и очевидно, и спорно. И не только в том дело, что обиход обиходу рознь, но еще и в самой спорности того, что очевидно: под сомнением нормальность нормы. Обиход — норма. Но нормален ли был бы Человек, согласившийся с этим — раз и навсегда?! Потесненная норма — ведь это и есть жизнь: и не вообще, а человеческая, собственно человеческая и только человеческая. Оспаривающая смерть? Оспариваемая смертью? И в первом, и в последнем счете — её и ею. Посредине же — бытие, которое тем более индивидуально — и в хорошем, и в темном смысле,— чем длиннее цепь, чем окольнее связь, в какую и обстоятельства, и воля включают «отдельно взятого» человека. Посредине — история в единственном числе: история Мира, к крайнему пределу которой неудержимо, скачками, ступенями лестницы, идущей все вверх и вверх, стремился «исторический человек»: особая разновидность Гомо, возникшая внутри человеческого же существования — вызовом эволюции, отрицанием меры, стремлением (великой и страшной попыткой!) превозмочь — навсегда — заданный цикл. Посередине — лабиринт культуры с множеством непрямых ходов, автономных и притязающих на суверенность образований духа, в свою очередь (параллельным движением: и вторжениями в историю Мира, и изгнаниями из нее), освобождающих человека от власти того же цикла, в каждом витке которого — приближающаяся смерть: и индивидуума, и вида.
В первом счете — оспаривание смерти. А в последнем? Не жизнь ли оспаривается смертью, отбрасывающей околичности и облачения, проникающей как жесткий рентген сквозь все надстройки, возведенные историческими столетиями, обнажая скрытые изъяны, и даже не столько приметы увядания, неподдающиеся излечению недуги, сколько симптомы конца безмерности, неотделимой от Истории?!
«Смирись, гордый человек». Признай свое совокупное поражение. Эволюция подтолкнула к поражению. В качестве исключения из правила ты подтвердил правило — тем, что увидел себя на краю пропасти, в которую ты оказался способным втянуть всё живое и неживое в этом уголке Вселенной. Отступи…
Заглянем в самую глубину колодца, туда,
где рядом, вместе
этнос и речь, убийство и миф…
Человек, живущий в мифе, устраняет смерть —
все — рядом, вместе:
кто был, кто есть, кому еще быть.
Человек исторический ею — историей — превозмогает смерть. Меняя и меняясь, он вкладывается, одолевает себя в будущем
и в будущих.
История приходит к человеку, когда он смутно ощущает непрочность жизни,
то, что она преходяща
(вспомнить первые смерти,
какие я пережил…)
Особое — наше — чувство, сознание, капкан:
постоянство приобщенности к истории,
самовключенности в нее.
«Победа над смертью» — старт всемирной истории.
От этого — через тотальное поражение
и равновесие смертью — к решению
всех вопросов заново.
Победа над смертью сделала мертвых
заново живыми для живущих.




Комментарии