Александр Ф. Филиппов
Суверен Гоббса
Александр Филиппов, профессор НИУ ВШЭ, в своей статье показывает тесную связь «силы» и «права» в философии Гоббса: суверен как гарант права оказывается также и арбитром в тяжбе политиков о праве.
 13 700
13 700 
От редакции. Мысль Т. Гоббса образует напряженное поле дискуссий о пределах суверенитета и распределении прав и обязанностей в государстве. Экономически просчитать эти права и обязанности невозможно, и фигура суверена как интерпретатора и учредителя государственного порядка оказывается необходимой. А.Ф. Филиппов, профессор НИУ ВШЭ, показывает тесную связь «силы» и «права» в философии Гоббса: суверен как гарант права оказывается и арбитром в тяжбе политиков о праве. Но оказывается, что даже быть гарантом права можно только в порочном круге дисциплинирующих практик, границы которых требуют отдельного обсуждения.
Философия Нового времени давно уже перестала быть новой философией. Утверждая себя когда-то через критику и отрицание древних, она, быть может, на сегодняшний взгляд, едва ли не столь же стара и уж точно — не менее недостоверна, чем античная или средневековая философия. Это, пожалуй, должно быть сказано, прежде всего, о политической философии, так или иначе имевшей дело с реальностью, которой давно нет, с понятиями, которые должны были выйти из широкого обращения столетия назад, с проблемами, которых не должна знать политическая наука — как и всякая наука, нацеленная на получение всеобщего, передаваемого, воспроизводимого и поддающегося проверке на истинность и опровержимость знания. Но вот что важно: всего, что должно было случиться с политической философией Нового времени, в действительности не произошло, и после краткого не забвения даже — кто говорит о забвении! — но некоторого снижения внимания, пренебрежения, продолжавшегося даже и не весь «долгий девятнадцатый век», к ней вернулись и спорят о ней и с нею так, что не всегда и разберешь, идет ли речь о новом взгляде исследователя на предмет, сугубо исторический, или об актуальном политико-философском высказывании, облеченном в традиционную форму исторического суждения. Макиавелли, Гоббс, Спиноза, Локк, Руссо, Монтескье — мыслители сегодняшние, к их языку и постановкам вопроса обращаются самые актуальные философы наших дней, и мало кого удивит сегодня исследование риторики и патриотизма у Макиавелли или различий в понимании народа у Гоббса и Спинозы.
Возможно, что Новое время еще далеко не завершено, что еще не все сказано и не все из сказанного понято. Благодаря усилиям исследователей у нас появляется другая философия Нового времени. Находим ли мы незнакомое в знакомых текстах благодаря тому, что само наше время переменилось и мы стали задавать другие вопросы и получать другие ответы? Или просто пришел срок, и мы доросли, точнее, дорастаем до понимания авторов, никогда не считавшихся чрезмерно сложными, авторов, по поводу которых могли быть разногласия в оценках, но консенсус в отношении самого содержания их текстов? Так ли это важно, если в текущие дискуссии, современные размышления их труды бывают включены органично и без видимого насилия над первоисточниками?
Присмотримся к одному из таких авторов, Томасу Гоббсу, прожившему почти сто лет, родившемуся, как он сам писал, под гром пушек, возвещавших гибель Великой армады, испанского флота, угрожавшего Англии, в молодости встречавшемуся с Галилеем, в зрелые годы дискутировавшему с Декартом, а в преклонном возрасте — с Лейбницем, пережившему и революцию, и казнь короля Карла Первого, и славную революцию — воцарение Карла Второго, его бывшего ученика… Он оставил по себе не слишком добрую славу, хотя написал много и о многом, но запомнился потомкам (в отличие от современников, видевших в нем сначала натурфилософа и математика, а потом — автора трактата «О гражданине») на долгие годы прежде всего как автор сочинения, столь же ославленного, как и «Государь» Макиавелли, — большой книги «Левиафан», первую часть которой занимают рассуждения антропологические и этические, а последние две — богословские, вызвавшие когда-то нападки влиятельного клира. Но впоследствии не более полутора десятков глав стали тем, что знали, что хотели знать о Гоббсе несколько поколений его интерпретаторов. Именно их усилиями сложился, потом был поколеблен, а ныне вовсе изжит тот консенсус относительно работ Гоббса, который то и дело все еще дает о себе знать в трудах и речах замшелых ретроградов. Напомним об этом консенсусе, о том, что «всем известно» про Гоббса, чтобы, оттолкнувшись от мнимого понимания, продвинуться к столь важному для нас пониманию подлинному.
Итак, считалось, будто Гоббс придумал следующее. Человек имеет некую природу, и природа человека не такова, какой она считалась раньше, многие века. Он вовсе не общественное животное и естественным образом в обществе не живет. Естественное состояние человека — не просто не общественное, то есть не просто изолированность друг от друга в противоположность связанности. Нет, естественным образом он находится в состоянии войны всех против всех, он желает удовлетворять свои желания, до желаний других и даже их жизней ему нет дела, он дорожит лишь своей собственной жизнью, и ничего нет страшнее для него, чем физическая смерть. А поскольку люди по природе не только враги, но еще и примерно одинаковы по своим способностям, никто не может никого победить в этой войне, и потом они воюют без надежды на установление мира. И вот, неким чудесным образом, убедившись, что победы не будет, а нажитое, да и самая жизнь постоянно под угрозой, они передают самое главное право — а в естественном состоянии каждый имеет право на все — своему общему репрезентанту, суверену, которым может быть даже и собрание лиц, но лучше все-таки одно лицо. И теперь только суверен обладает этим главным правом: карать смертью за нарушения. Эта передача своего главного права суверену называется общественным договором: люди договариваются, что больше не будут воевать, а гарантом делается суверен, причем гарантом не только полноправным, но и самым сильным. Он соединяет в себе право силы и силу права. Он сохраняет мир и обеспечивает действие всех договоров, и уже теперь, под его властью, корыстолюбивые индивиды могут удовлетворять свою страсть к наживе. Их вражда между собой не исчезает, но она принимает более умеренные формы, они уже не воюют, а наслаждаются миром. Суверен, в свою очередь, не хочет от них слишком многого. Он не хочет ни любви, ни самоотверженной преданности. Ему довольно лояльности, внешнего соблюдения правил, внешнего исповедания навязанной им веры и т.п. Все это кажется ужасным цинизмом, с какой стороны ни посмотреть. Ни в королях, ни в народах Гоббс не видит, так сказать, ничего хорошего. Существование первых оправдано тем, что они защищают тех, от кого требуют повиновения, но при том не имеют никаких иных, наследственных, сакральных качеств. Вторые же кажутся не более чем сборищами корыстолюбцев, ни во что не верящих, эгоистичных и злобных, трусливых и лживых.
Правда, с течением времени обнаружилось, что Гоббс, в общем, ничего подобного и не говорил, да и время, время же переменилось! И вот уже либералы числят Гоббса среди своих: да, говорят они, правильно рассудил Гоббс, что человек корыстен. И в самом деле, преследуя личную выгоду, приобретая богатства, говоря словами Гоббса, способами «безопасными и безвредными для государства», люди более всего заинтересованы в том, чтобы «не было войны», чтобы договоры соблюдались, чтобы изданные в государстве законы распространялись на всех и чтобы источник этих законов был один, а не множество, а именно тот самый суверен, который обладает своей властью, — и граждане, как и сам он, всегда помнят об этом — лишь в силу договора, их общего согласия и признания. Неоткуда больше ему взять свою силу, ничего, кроме соглашения, не гарантирует его власть, воля народа, репрезентантом которого он является, — вот что самое главное. И не забудем, что ни мнения, ни верования, ни даже образование самых разных групп Гоббс вовсе не считает крамолой. Везде критерий только один: безопасность государства, то есть той самой мирной жизни, которая имеет все основания стать счастливой, зажиточной, приятной, хотя и мало напоминающей жизнь античных граждан, то и дело приводимую в пример политическими писателями, тоскующими по высшим политическим идеалам.
Но и эта точка зрения на Гоббса не удержалась. Многое переменилось с тех пор, как в XIX веке начали систематически издавать Гоббса (до этого его читателям приходилось пользоваться, в основном, прижизненными изданиями), и отследить каждую перемену в отношении к нему мы не можем. Однако же вот что получается сегодня. Первое — и самое простое — это, конечно, «естественное состояние». Давно уже читатели Гоббса заметили его слова о том, что, может, и не было никогда и нигде такого состояния. Одни стали считать такое описание риторическим приемом, другие говорили о том, что Гоббс, по сути, предложил что-то вроде математической модели: не бывает идеальных фигур, но мы рассуждаем так, как если бы они существовали в реальности. То же и с естественным состоянием. Не получается! Не получается потому, что Гоббс постоянно говорит нам о реальности этого состояния. Только это другая реальность — не историческая, о которой не осталось ни свидетельств, ни других подтверждений. Это реальность повседневная, реальность неизживаемой войны всех против всех. Неизживаемой? Значит, она не завершилась общественным договором? Но понятно ведь, что если не было такой войны как исторического факта, то не было и факта договора, точнее, не было такого события, которое однажды положило конец войне! Значит, приходится признать, что договор — это нечто иное, раз уж рассуждениям о нем Гоббс уделяет столько внимания! И в самом деле. Договор, говорит Гоббс, не обязательно имеет место при основании государства. Если, например, одно государство завоевано другим, то граждане завоеванного государства обращаются не в рабов, отнюдь нет. Есть разница между рабом и гражданином, и разница эта состоит в том, что раб ничего не получает от господина и ничего ему не дает.
Давайте-ка остановимся на этом поподробнее. Раб, говорит Гоббс, находится по отношению к господину в состоянии войны. Он бесправен — это значит, что его могут убить в любой момент, он жив сейчас, но это ничего не значит. Только то имеет значение, что не исчерпывается голой фактичностью. Ну, что такое сам по себе факт жизни? Сегодня он, раб, жив, а завтра мертв по воле господина, потому что никаких гарантий жизни невозможно дать тому, кто просто подчинен силе. Вот и выходит, что жизнь у него вроде бы есть, но эта жизнь — под угрозой. Да ведь и война, говорит Гоббс, — это не просто акт битвы, а все то время, что сказывается воля к борьбе путем сражения. А это значит, что мир — не отсутствие битвы, не временное ее прекращение, а нечто гарантированно прочное. Это относится и к гражданскому миру, точнее, только к нему и относится, потому что международного права Гоббс не признавал и отношения между государствами считал естественными, то есть состоянием войны.
Итак, новые граждане покоренной страны, если они граждане, то не рабы, а если не рабы, то подданные суверена, принципиально не отличающиеся от его «старых» подданных. Значит, у него не просто с ними мир, а то же самое гражданское состояние, которое было в завоевывавшем их государстве. То есть общественный договор. Но как выглядит договор? Ведь если даже предположить, что какой-то договор был исторически заключен (мы знаем, что это не так, но допустим, что все же было, было!), сам факт договора касался лишь тех людей, которых давно уже нет. Но все дело в том, что гипотетический процесс договора для всех остальных (и для последующих поколений, и для присоединенных народов) заменяет признание договора состоявшимся, действующим. Это главное — и через почти четыреста лет после Гоббса мы можем то же прочитать, например, у Джона Ролза, одного из важнейших политических философов минувшего века. Не активное участие в переговорах, уточнении позиций, заключении формальных соглашений, иначе говоря, не какая-то выдуманная, никогда никем не виданная деятельность, но вполне практически наблюдаемая и реализуемая лояльность гражданина — вот что такое общественный договор. Граждане покоренной страны, подобно все новым поколениям страны-завоевателя, признают действующие законы, поступают согласно законам, не бунтуют и не готовятся бунтовать против суверена, — и потому в действительности, не артикулируя этого, вступают в общественный договор.
Это значит, между прочим, что соблюдение законов и покорность суверену основаны у них не на одном лишь страхе. Понимание законности законов, правомерности приказов должно забраться у граждан куда-то поглубже, чем на уровень простого расчета: если я ничего не нарушу, то буду жить, а если нарушу, то непременно накажут или даже убьют. Гражданин, напомним, не раб, потому что раб скрыто воюет, а гражданин не воюет ни открыто, ни скрыто.
Но как же так, зачем же тогда нужен суверен, зачем все эти рассуждения Гоббса об угрозе жизни, которая в естественном состоянии исходит от каждого и направлена на каждого, а в гражданском — только от суверена и направлена на каждого, «кто покусится»? И, кстати, куда делось естественное состояние войны всех против всех? Никуда оно не делось, вот в чем дело! Если и не было исторического факта, исторического прерывания длящейся войны, то ведь понимаем-то мы общественное состояние лишь по контрасту с естественным, значит, если одно не возникло, то и другое не прекратилось? Так и есть. Естественное состояние угрозы, которую один человек представляет для другого, никуда не делось, оно то и дело прорывается через ткань мирной жизни, и о существе общественного договора приходится напоминать, приходится выстраивать сложную систему поощрений и наказаний, начиная с издания законов и организации разного рода учреждений и кончая объяснением значения слов (чтобы правильно понимали все и всё и не заблуждались, и не бунтовали от заблуждений). Суверен — не просто высшая сила! Он высший толкователь, педагог и первосвященник. Мир держится на зыбком основании. Как прекрасно было бы сказать: мир, установленный им. Но не суверен устанавливает мир! Люди устанавливают мир, становясь гражданами.
Еще раз. Стать гражданином (быть гражданином и стать им — одно и то же, здесь все — динамика, все — жизнь, ничего застывшего) можно лишь так: соединяясь, соглашаясь с другими, восставить над собой нечто большее, чем каждый по отдельности и чем вся совокупность людей вместе, поставить над собой репрезентанта, то есть того, кто авторизован говорить и действовать от имени всего народа, только потому и ставшего народом, что множество разрозненных индивидов опознает себя как единство лишь через единство суверена, а его волю — как результат своего воления. Гоббс придумывает сложнейшую объяснительную схему, чтобы показать: отношения народа и суверена подобны отношениям поручителя и доверенного лица — без поручения от первого второй не действует, но, получив доверенность, может называть все свои действия действиями доверителя, и последний не может с этим не согласиться: он дал поручение и полномочия и теперь несет ответственность за это. Не лишено иронии и вместе с тем глубокого смысла, что доверителя Гоббс называет автором, а доверенное лицо актером, но главное здесь другое: вновь и вновь мы обнаруживаем, что опознание своего в чужих действиях, подчинение чужой воле как своей, не тобой изданному закону и толкованию важных истин, есть непременное условие и в то же время следствие простой лояльности, сопряженное с пониманием неизбежности войны всех против всех, если что-то здесь будет нарушено.
Можно ли выйти из этого порочного круга? А что круг порочен, кажется нам очевидным: фактически существующая власть опознается как нечто такое, значимость чего трансфактична, как трансфактично право по отношению к силовому улаживанию спора. Эта трансфактичность опознается, далее, как результат совместного решения, но единственный признак фактического существования этого решения — то самое лояльное поведение, к которому гражданин все-таки принужден, ибо если кто и может — вдруг — тягаться силой с сувереном, никогда не будет иметь на это права. Итак, с одной стороны, гражданина подпирает всеобщая враждебность, грозящая при распаде социальной жизни обернуться войной всех против всех, с другой же стороны, в расчетливой лояльности обнаруживается нечто иное и большее, чем простая калькуляция выгод и подчинение праву силы. Возможно, гражданин решит размышлять? Уж право мыслить, а хотя бы даже и читать вредные возмутительные книги, а хотя бы даже и обсуждать эти книги и эти мысли с другими людьми, Гоббс не отнимает — он только требует, чтобы все это не было публичным, чтобы не угрожало миру и порядку. Казалось бы, отчего нет? Отчего не быть и такой жизни в мирных полицейских, как говорили во времена Гоббса (хотя и не он сам) условиях? Но беда в том, что до истоков войны мы так еще и не добрались!
Интерпретаторы Гоббса не так уж редко скатывались к такому пониманию: жизнь важнее всего, а поскольку с желанием жизни сопряжено желание власти, позволяющее эту жизнь сохранить, то и власти нужно каждому как можно больше, и безграничное желание власти наталкивается у каждого индивида на другое такое же у других людей. Так оно и есть, только здесь еще следует добавить, что ни жизнь, ни власть Гоббс не рассматривал слишком уж просто. Жизнь у него — это не голое продолжение физического существования. Это именно что достойная жизнь, в которой достаточно и воздуха, и свободы для самореализации. Власть, о которой он говорит, — это не только власть ради чего-то, будь то деньги, почести или сама жизнь в простом смысле слова. Власть — это развертывание потенции, это подтверждение возможной мощи (потенции) через деятельность. Это власть ради власти, и даже смерть может быть не страшна гоббсовскому индивиду, если он решит, что честь дороже.
Но когда еще не страшна смерть? Когда жизнь здешняя отступает на задний план по сравнению с жизнью вечной. И это значит, что тот, кто знает тайну вечной жизни, кто интерпретирует откровение и спасение, кто решает, можно ли кого считать пророком, а невиданные события — чудом (и что сии чудеса значат!), — только тот и является подлинным сувереном. Но тут же мы, кажется, готовы запутаться окончательно. Ведь исследование последних истин может привести гражданина к выводам, опасным и вредным для государства: он сам для себя решит, что полезно и что вредно ему для спасения. Сможет ли запугать его суверен посюсторонними карами? Но если суверен берет на себя роль высшего толкователя, то станет ли он допускать свободное исследование истин и чтение, пусть приватное, вредных книг? Но не признает ли он тогда самоё Библию вредной книгой, разве что навяжет ее толкование, безопасное и безвредное для государства? Это вполне возможно, если провести полную реформу образования, огородиться от внешнего мира, закрыть университеты, изгнать католиков (подчиняющихся иному духовному авторитету) и т.п. Но много ли тогда останется от свободного признания и опознания суверенной власти как своей собственной воли? Не окажется ли в конце концов весь проект перекошен в сторону властных полномочий, навязанной системы воззрений, контролируемого образования и соединения власти светской и религиозной в одном лице, одной инстанции? Возможно и это, но только не с гоббсовским индивидом с его бесконечной жаждой власти, славы, могущества, с его готовностью уступить суверену лишь самую малость — право судить и убивать за проступки.
Гоббс не ответил на эти вопросы. Он был одним из первых, кто задал их в адекватной форме. А вот что там происходило еще, кто и как отнесся к тем вопросам, которые впервые поставил именно он, — об этом можно будет поговорить отдельно.
Читать также
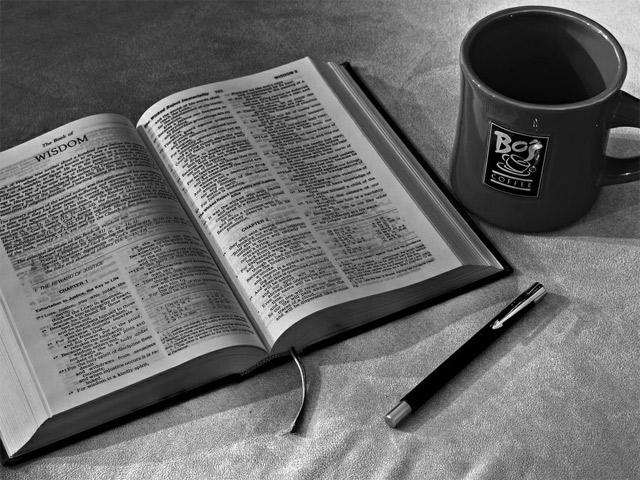
Естественная теология и противоестественная сакральность
Продолжают поступать отзывы на статью Александра Филиппова «Суверен Гоббса». На этот раз культуролог Виктория Файбышенко связывает идею суверена с идеей уже освященной истории, в которой есть постоянное сотворение политики.





Комментарии