Михаил Гефтер
Смерть-Гибель-Убийство
Книга М.Я. Гефтера, изданная в 2000 г. в серии «Весь Гефтер».
 19 510
19 510 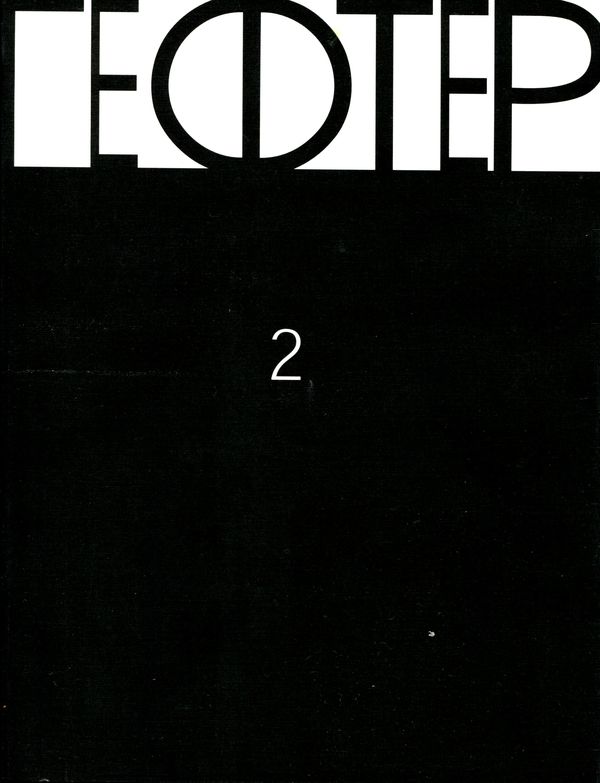
ЛИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГОЛГОФЫ
Память хватко держит самые драматичные, непредугаданно «парные» из наших домашних коллизий. Бородинское поле и кронверк Петропавловской крепости, 19 февраля и Екатерининский канал, крестный ход с побоищем, учиненные Георгием Гапоном вместе с Николаем Романовым, и за все долгая расплата: монархией, февральской свободой, октябрьским равенством…
Недостача в «предпосылках» — и избыток в блужданиях. «Моменты истины» — и могилы братоубийц. Не было бы исступленно ищущего духа, откуда бы взяться оборотням его, высасывающим кровь из живых?
Труднее трудного — ухватить целое. Движение целого. В людях, конечно, ибо какая ж история, если безлюдна. Но еще два действующих «лица» не упустить бы из виду: Пространство и Время.
Пространство — российское, которое заведомо не страна, но и империей не исчерпывается. А если империей, то той — особенной, что, доставшись ХХ веку, не в силах уйти, не прихватив с собою этот век. А Время? Оно и есть время, потребное для такого ухода: когда не от нуля, но — с начала.
Сегодня это — само собою. Так оно только и должно быть. Но не проглядеть бы, как пришло: не от нуля, но — с начала. Как возникло некогда, как уходило и возвращалось. И не непременно большаком, а и проселками, тропами. Малыми человеческими добавками, которыми придвигались (мы — в предках!) к нынешнему порогу.
Четыре десятка лет назад, когда впервые поднялся на истфаковскую лестницу и огляделся в этом шумном, тесном двухэтажнике с остатками былого дворянского гнезда (лепнина, изящные кариатиды), — скажи мне кто-то: а знаешь, говорят, тут кончил дни свои Трубецкой, тот самый, что мог победить 14 декабря, — ты-то как к нему относишься? Если бы уклонился от ответа, то, скорей, от незнания. Да еще от преклонения перед «падшими». Привитое школьным Пушкиным могло ли уйти? А сейчас, когда позади две трети века, сраженные друзья и иллюзии, что скажу о князе Сергее Петровиче? Из самых близких. Но почему?
Разве не смалодушничал он, не изменил долгу лидерства, не бросил на прихоть судьбы тех, с кем прошел от Бородина до Лейпцига, и еще многих иных, кому жить и жить?
«…Я не только виновник всех бедствий оного дня и несчастной участи злополучных моих товарищей.Я не только не заслуживаю ни малейшей пощады, но уверен еще, что только увеличением заслуженного наказания должна быть облегчена участь всех несчастных жертв моей надменности, ибо я могу почти утвердительно сказать, что если б я с самого начала отказался участвовать, то никто б ничего не начал».
Никто б ничего не начал. Историк не может не оспаривать. Чересчур долог путь к событию, чересчур грандиозно оно само, чтобы зависеть от человеческой единицы. А между тем — так. Не согласись Трубецкой, вряд ли рискнул бы Рылеев, а без его лихорадочной активности, без его вербовочного азарта оказались ли бы в мятеже мужи совета — Штейнгейль и Батеньков (вход к Сперанскому!), рванулись ли бы в бой из-за переприсяги храбрецы-рубаки, подобные двадцатисемилетнему Щепину-Ростовскому? Впрочем, и по сей день исследователь, просеивая свидетельства, нет-нет да и выловит еще один, не замеченный прежде шанс на успех заговорщиков. Но вот загвоздка — успех чего?
Князь Сергей Петрович был побежден еще до поражения. Ибо был старовером вольности, равно враждебной шапке Мономаха и фригийскому колпаку. Он задержался в пути, в то время как большинство из тех, кто начинал, уже отпало. Теперь ему предстояло решать головоломку: как овладеть «чужим» событием (заварухой престолонаследия), зная, либо только догадываясь, что и продолжению не быть, если не уйдет в не свои руки. Решился совместить Сенатскую площадь с Россией, не гнушаясь обманом и уберегаясь от произвола. (Успей он уничтожить клочок бумаги, черновик реформ, пункты без заглавия, мы никогда не узнали бы этой первой отечественной заявки на исторический компромисс, заявки великой — неисполнимостью!)
Алексеевский равелин очистил замыслы от тщеты.
Человеческая неудача, терзаемая инквизиторами и раскаянием, переросла в поражение.
И неосвобожденная Россия стала отсчитываться от него: словом, мыслью, судьбами.
Так повелось и уже не прекращалось.
Д в и ж е н и е п о р а ж е н и я м и — не русская находка.
Оно изначально в историческом человеке. В России же, раздвинувшись масштабом, укоренилось в особом человеческом типе. Обреченном на поражение и превозмогающем эту предопределенность — нравственным максимализмом, у которого нет прямого перевода в Дело и которое поэтому остается без дела…
Испытание на п о р а ж а е м о с т ь — из тягчайших.
От скрижали до похоронки — один шаг. И от братства одиночек к «злодеям развития» — также один, хотя и длится годами, десятилетиями, эпохами, поколениями.
Каков же выход?
Сменить масштаб? И даже найдя «свое» событие, вовремя расстаться с ним (своим!), уступив его «чужим» продолжателям?
Не потому ли так дорог мне князь Сергей Петрович, что был едва ли не первый из тех именитых и безвестных, у которых общее — сомнение в праве вести за собой других, еще не готовых к собственному выбору?
Не отказ, а — с о м н е н и е. Всего лишь сомнение.
И даже не то, что впереди действия, предвестием гибелей, а то, и именно то, что окуплено собственным уроком. Оплачено собственным действием.
П а д е н и е м в п о р а ж е н и и.
И падением в победе. Да — и последним также.
Высшее мужество — опознать падение в победе.
Скажешь: никогда не поздно… Но так ли? Вся новейшая история, наша и не наша — в оспоривателях. Наша прежде других. Ибо вся в опозданиях. Чем ближе, тем опоздания эти злокачественней. А затем уже и не опоздания — пустота.
Яма. Беспамятство.
И не уходит горечь: откуда забывчивость? Чем держится? Ритуалом ли торжеств? Либо привыкли гордиться — превыше всего — праведными смертями, закрывая глаза на н е п р а в е д н ы е? Или все дело в том, что нет уже этого различия? В последнем счете ушло. И не то, чтобы поменялись местами праведные с неправедными. И не то, чтобы знак равенства. Иное.
…Ядерный гриб в конце ряда, где князья и разночинцы, Рахметовы от первого до последнего, где в моей ночной яви — симферопольские Дубки и замшелая, втиснутая в землю плита на Волковом кладбище над останками Веры Ивановны Засулич, открывшей русский террор и употребившей жизнь на избывание его.
Ядерный гриб — уравнитель. Но ведь и он не джин, самочинно выпрыгнувший из бутылки. Он также — люди. Сам-один, сам-десять, а затем — сразу — миллионы, миллиарды. Без промежутков во времени. Без убежищ в пространстве.
Табу на гибели — запрет на победы.
Ни одной, ни над кем!
В нашем прошлом вижу я не профилированную магистраль, дополняемую пресловутыми зигзагами, а куда более сложную картину движения. Помните, у Герцена: к о н ц ы и н а ч а л а. Непрерывность мирового процесса достигается сменою их — во времени и в пространстве. Нет концов, нет и начал. Но с какого-то момента этот закон (а это закон истории в строгом смысле) становится трудноисполнимым.
Концы «застревают». И это не простая инерция. Тут все запутанней и хитрее. За видимостью «ускорения истории» скрывается перемена в ее коренных свойствах. Меняются все, но более всего те, кто включается позже, кто силится догнать ушедших вперед. Происходит своего рода переворачивание классического прецедента: его конечный счет становится инструментом начала, как будто бы не нуждающегося в продолжении. Пропуск этапов, фаз, ступеней кажется преимуществом, превосходством… Здесь и л о в у ш к а. За это также надо платить, и цена не только растет: цена обретает ранг смысла. Она исподволь замещает и цель, и средства (средства, исторически приуроченные к цели). Новоевропейская поступательность вступает здесь в брак с циклизмом, унаследованным от ранних цивилизаций. И концы, принимая крайние, разрушительные формы, вместе с тем отвердевают, окостеневают в способах, приемах, нравах.
Несостоявшиеся развилки режиссируют гибелями…
Мы еще не вчитались, не вдумались как следует в судьбу наших предальтернативных лет. Что говорят нам такие даты, как 1923-й, 1928-й или 1934-й — до 1 декабря и даже после?
У каждой свой «сюжет», свой список действующих лиц, свои вычерки из него. В каждом случае мы можем прощупать наметку выбора, близость его и в каждом — сужение поля выбора. Нарастающее сужение поля выбора. Мы останавливаемся в недоумении: отчего потерпел неудачу последний ленинский замысел перестановок лиц у власти, неотрывный в его сознании от изменений политического строя в самой болевой его «точке» межнациональных отношений? Мы пытаемся уразуметь причины банкротства поборников нэпа — поражения большинства (среди лидеров), нанесенного им режиссируемым большинством функционеров. По смутным фрагментам из документов, воспоминаний, лагерных легенд мы тщимся реконструировать наиболее загадочную из наших развилок 1934-го, плодом которой явились Конституция 1936 года и террор 1937-го…




Комментарии